Лессинг и современность (Готхольд Эфраим Лессинг, его жизнь и его деятельность, их изложение Николаем Чернышевским в отношении к нашим современным проблемам). Часть III
2017-03-06 Mikołaj Zagorski (текст), Dominik Jaroszkiewicz (перевод с польского и выбор цитат) (Mikołaj Zagorski, Dominik Jaroszkiewicz)
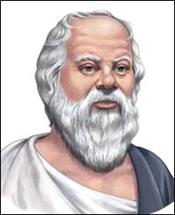
Часть III
О способе появления теоретических сообществ. Чернышевский о личности, эпохе Лессинга и сократическом методе
Большое влияние сократического способа мышления и жизни на Лессинга Чернышевский описывает такими словами:
«Положительно нам говорят его современники, что он чувствовал себя хорошо только в кругу равных ему людей, — сюда принадлежали также все низшие, потому что он обращался с ними, как с равными, и, действительно, не считал их низшими себя. Мы уже упоминали, что с своим слугою он обходится «как с братом», по выражению его биографа. Ему приятно было держать себя с людьми низшего звания так, чтобы они забывали разницу его и их состояния. Это относится не только к общественному положению, к которому ещё могут быть равнодушны люди, чувствующие, что главное право их на общее уважение — ум, талант или звание (хотя и они редко возвышаются до такого чувства), но и к умственному превосходству, отказываться от которого гораздо труднее: Лессингу несносно было затмевать своего собеседника, тяжело было даже, когда начинался ученый или литературный спор, одерживать верх над своим собеседником. Он старался, против обыкновенного правила всех споров, не доказывать, что его противник ошибается, а, напротив, придавать его словам самый разумный смысл, объяснять их так, чтобы они как можно ближе подошли к истине; собеседник его, мало-помалу принуждаемый исправлять свое ошибочное мнение, сам не замечал того, что исправляет свои прежние слова при помощи Лессинга: ему казалось, напротив, что Лессинг во всем или почти во всем должен был соглашаться с ним. Это не было только следствием редкой мягкости обращения, которою отличался Лессинг, по словам всех знавших его: тут было и нечто другое, именно желание не унизить, а возвысить своего собеседника в глазах присутствующих, потребность явиться не высшим, а только равным ему».
Эти личностные особенности Лессинга Чернышевский умело вписывает в широкий контекст общественного и гносеологического в частности процесса. В целом гносеологические отношения зарождающейся немецкой теоретической нации он описывает довольно подробно. Прошло два столетия. В Англии юмизм превратился в новейший позитивизм, во Франции господство получил постмодернизм. Ничего не мог знать об этом Чернышевский. Всё же указывая значение немецкой теории он не ошибся и для современности. Совершенно неслучайно, несмотря на обилие французской литературы, французский язык не ценится в сфере теории слишком высоко; ниже его из европейских языков с мировой художественной литературой ценится только английский, выступающий как язык испанских и немецких переводов для США, Канады, части Африки, отчасти Индии и Пакистана. Что не мог знать Чернышевский, так это падения его собственного и Ленина языка до статуса близкого к переводному для Средней Азии, Закавказья и, отчасти, Украины. Вот, собственно само авторское высказывание, вполне актуальное и расширяющее довольно известную гегелевскую пессимистическую оценку английского мышления:
«Нелепо было бы нам, людям посторонним, быть безусловными поклонниками немцев и ставить их поэтов и мыслителей идеалами, перед которыми ничтожны, например, поэты и мыслители английские и французские, — сами немцы не впадают в такую ошибку, тем нелепее была бы она у нас. Но беспристрастные люди всех наций согласны в том, что, если, вообще говоря, французские или английские писатели имеют во многих отношениях превосходство над немцами, то по смелости взгляда и логичности выводов немцы стоят далеко выше их. Французы с парадоксальным экстазом провозглашают, сами изумляясь своей смелости, такие мысли, наивность которых кажется пресною для немцев; англичане пресерьёзно доказывают справедливость понятий, нелепость которых очевидна для немца с первого взгляда, — кроме того, они слишком плохие диалектики сравнительно с немцами».
Некоторое созвучие борьбе Семека за теоретического возрождение Польши можно найти в описании Чернышевским куда более масштабной борьбы Лессинга:
«... владычество псевдоклассической драмы было так сильно, что борьба с нею всего сильнее заинтересовала на первый раз умы читателей. Они не могли сомневаться в том, что Корнель и Вольтер (как драматург) совершенно уничтожены Лессингом. Как, немец поразил насмерть величайшие французские авторитеты, перед которыми преклонилась вся Европа! Эта победа чрезвычайно ободрительно подействовала на немецкий ум. Это не то что пустая похвала своей национальности, — нет, это положительное доказательство того, что немцы могут выйти из-под умственной зависимости от иноземцев, — мало того, что немцы могут теперь в свой черёд иметь решительный голос в умственной жизни Европы, что Германия должна стать центром умственного движения новой эпохи. Действительно, с той поры совершенно изменяется характер понятия, какое немцы имеют о значении своём между другими народами. «Нам нечего ждать чужих решений, — у нас есть головы, каких нет нигде; уж если прислушиваться к чьему-нибудь мнению, то прислушаемся к тому, что говорят в Гамбурге, в Вольфенбюттеле, в Кёнигсберге, в Берлине, в Веймаре, в Иене», — за Лессингом выступают Кант, Гёте, Шиллер, Фихте, — у всех этих людей одно общее чувство: сознание великого своего превосходства над иноземцами, действующими на одном с ними поприще; один общий тон в голосе: тон человека, сознающего, что он идёт во главе умственного движения своего времени, что он трудится не для одного своего народа, а для всего цивилизованного света, потому что народ, которому он говорит, должен вести за собою все народы. Это сознание проникает всю нацию. И скоро все остальные нации действительно начинают говорить: «нам нужно учиться у немцев: кто не хочет быть отсталым человеком, должен пройти школу немецких поэтов и мыслителей»».
От имени великороссов Чернышевский делает далее замечание, отнюдь не ослабшее в силе за сто шестьдесят лет:
«У нас, которые этому сознанию превосходства немецких поэтов и мыслителей не могли противопоставить воспоминаний о каком-нибудь прежнем умственном владычестве нашем над Европою, немецкое влияние утвердилось очень быстро. У англичан и французов, которые имеют в этом случае очень блистательные воспоминания, борьба узкого национального пристрастия с требованиями справедливости должна была быть гораздо упорнее. Она ведётся до сих пор, и с каждым годом усиливается в Англии и Франции влияние мыслей, выработанных на немецкой почве. Между тем как сами немцы, уже достигнув результатов, которых искали в области эстетических чувств и философских понятий, уже охладевают к своим прежним поэтам и философам и переносят свои стремления к другим сферам жизни, в которых чувствуют себя отсталыми, — в это время французы и англичане всё более и более проникаются сознанием необходимости усвоить себе то, что уже приобретено немцами, и заменить своего Декарта или Локка Кантом и Гегелем».
Продолжение этой мысли имеет, как кажется, узко историческое значение. Оно посвящено именно немецкой теоретической нации и именно 1840-х годов. Однако нетрудно заметить в рассуждениях Чернышевского также то, что касается вообще любой теоретической нации. Эти утверждения выделены курсивом для удобства читателя.
«Широта и беспристрастие взгляда чаще встречаются у немца, нежели у кого-нибудь. Несправедливо было бы считать это достоинство особенным качеством немецкой национальности— логическая сила есть общее достояние человеческого ума; но то несомненно, что вследствие привычки к глубокому и беспристрастному мышлению, это драгоценное качество сильнее развито в настоящее время в немецкой, нежели в какой бы то ни было другой нации. Нельзя приписывать, конечно, развитие этой привычки исключительно или преимущественно влиянию одного какого-нибудь человека, — оно было следствием общего состояния Германии в половине прошлого века и свойства тех вопросов, на которые первоначально устремились умственные силы немецкого народа. С одной стороны, факты его жизни были так незавидны, что не могли порождать особенного пристрастия к себе: у немцев не было ни блестящей национальной истории, ни блестящих периодов литературы, как у французов и англичан, ни причин гордиться устройством своего, внутреннего быта, как у англичан, или умственным владычеством над Европою, как у французов. Они не имели поводов быть пристрастными — не к чему было пристраститься; не имели поводов быть робкими в выводах из опасения коснуться отрицанием чего-нибудь драгоценного — им было нечего беречь и щадить».
Переводя выделенные положения с языка отражения на язык основывающих его фактов политической и общественной жизни, мы должны уметь ясно видеть политические условия, соответствующие ближе всего современным украинским и находящим близкое соответствие во внутренней политике романовской монархии времён Чернышевского, в кубинской действительности времён Хосе Марти.
Переход от интеллигентски-теоретического этапа духовной жизни нации к практически-революционному, массовому этапу прямой, не опосредованной гносеологической полемикой, политической борьбы не мог не интересовать Чернышевского. Сразу после окончания предыдущей цитаты он продолжает мысль именно подцензурным рассуждением об этом вопросе:
«С другой стороны, первоначальною школою, в которой воспитывалась их мысль, было обсуждение вопросов, более или менее отвлечённых, — литературы, науки, — в этих сферах привыкнуть к смелости и беспристрастию выводов легче, нежели в сфере бытовых и общественных вопросов, где от положительного или отрицательного решения непосредственно зависит всё материальное и общественное положение человека. И самая натура вопросов, к которым первоначально обратилась пробуждавшаяся немецкая мысль, и обстоятельства, в которых пробудилась она, развивали в ней наклонность и потом привычку к логичности выводов и широте взгляда. Но того нельзя отрицать, что насколько отдельный факт может иметь влияние на развитие в обществе известных стремлений, настолько «Литературные письма»[1] содействовали образованию в немецкой мысли того драгоценного качества, о котором говорили мы. Эти письма были первым и чрезвычайно блестящим указанием пути, по которому пошла немецкая мысль. Действие, произведённое ими, было очень сильно: все могли учиться из этого примера, все почувствовали желание итти по дороге, в первый раз проложенной Лессингом».
Развитие любого теоретического сообщества, но в особенности такого, которое должно дать духовную силу социальной революции Чернышевский связывал исключительно с развитием сократического способа зарождения и распространения мышления. Сто шестьдесят лет, прошедшие с момента написания его работы о Лессинге не изменили в этом отношении совсем ничего. Всё тем же простым сократическим способом в «Что делать?» Ленин обнажает убогость эмигрантско-бюрократических организационные проектов, а Канарский безальтернативно отождествляет словесно-поносящих «ленинцев» с обыкновенными позитивистами. В основном дальше простого сократического диалога с читателем не заходит при разоблачении врагов освободительного процесса Марек Семек, ибо этого оказывается достаточно для большинства случаев. Потому до сих пор благополучие любой теоретической нации, малейшие шансы её революционных классов на экономическую и политическую победу определяются в главном по наличию живой традиции диалектического мышления, по живущей сократической диалектике в деятельности главных представителей теории обществопределывания, теории социальной революции. Без этого обсуждать долгосрочный успех социальной революции невозможно, ибо нестойкость против софизмов легко приведёт к тому, что главными выгодопреобретателями революции будут сомнительные дельцы типа Наполеона III или Пилсудского. И тогда даже то, что субъективно начиналось и продолжалось как социальная революция окажется всего лишь политической революцией в духе последней политической революции, сменившей Януковича на Порошенко. Подобным образом вообще не могут не закончится любые перевороты с участием масс, если только в самих массах нет имеющего экономический вес отторжения к софизмам, прививаемого живым воздействием диалектической традиции мышления. Поэтому одним из наиболее интересных процессов современности является процесс конституциирования живой традиции диалектического мышления в России, который происходит на её поволжких и заволжских землях. Если Россия сможет стать на сторону социальной революции, то истоки её общественного возрождения будут несомненно находиться в её заволжских промышленных воеводствах. Хорошо бы потому восточному читателю посмотреть как Чернышевский выделяет сократическое влияние Лессинга, как он подчёркивает связь этой живой диалектики с революционными перспективами Германии и вообще её теоретической в современном понимании жизнью. Будто о современной России, теоретическое мышление которой впало в кому, Чернышевский замечает:
«Важно было не столько приобретение немецким обществом суждений о литературных явлениях, сколько то, что вместе с содержанием суждений перешел в немецкую мысль их дух, — дух строгой, не останавливающейся ни перед какими выводами логики, не признающей за заблуждением права на уступки, ищущей только чистой истины, какова бы ни была от того судьба наших личных предубеждений и поползновений».
Уточняя в другом месте:
«Немецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить её. В этом отношении, как и во всех других, Лессинг был именно человек, в каком нуждалось то время. Только беспощадная диалектика, не оставлявшая ни одного уступчивого слова для успокоения, могла заставить публику и писателей признаться в том, что литературные дела их действительно в плохом состоянии, и пробудить в них потребность исправления безжалостно раскрытых недостатков».
В другом месте, но, очевидно, по отношению к этой или близкой заслуге Чернышевский добавляет:
«Он доставил немецкой литературе силу быть средоточием народной жизни и указал ей прямой путь, он ускорил тем развитие своего народа. Это определение границ исторического значения Лессинга необходимо для того, чтобы предохранить себя от безграничного превознесения его: в самом деле, личность этого человека так благородна, величественна и вместе так симпатична и прекрасна, деятельность его так чиста и сильна, влияние его так громадно, что чем более всматриваешься в черты этого человека, тем сильнее и сильнее проникаешься безусловным уважением и любовью к нему».
Эту мысль Чернышевский развивает в другом месте, прямо указывая на сократическое влияние:
«По своей натуре, чрезвычайно живой и пылкой, Лессинг вообще был расположен работать именно только над тем, что не могло быть совершено другими; в нём жило инстинктивное влечение гениальных людей устремлять свои силы только на существеннейшую часть дела, представляя другим второстепенным людям то, что уже по силам для них — именно разработку поставленной руководителем задачи и пользование доставленными им к тому средствами; кроме того, он, как мы видели, имел ту особенность, что не любил держать в зависимости от себя волю и ум других, — ему было противно завидное для столь многих положение главы школы, окружённого последователями, — главною его задачею было возбуждение самостоятельной деятельности в других[2], — как скоро истинный путь был указан, деятельность возбуждена, он чувствовал свое дело совершенным, ему скучно и противно было участвовать в нём долее, стесняя своим превосходством развитие других, — он чувствовал уже влечение обратиться к решению других задач, ещё не тронутых. Именно такой характер и был тогда нужен для возрождения немецкой мысли в мыслителе, который был бы предводителем нового движения. Характер Лессинга как человека соответствовал потребности Германии в таком писателе, который возбуждал бы к деятельности, не отнимая работы у пробуждённых умов своим неотступным участием, который научал бы, не подчиняя[3]».
Упоминая одну из публикаций Лесиснга, Чернышевский в другом месте проводит похожую мысль: «...здесь кстати слова [современника Лесиснга]: «она ободрила нас, молодых людей», — они напомнят читателю то, что мы говорили о существенном характере влияния Лессинга: оно развязывало руки талантливым людям, оно вызывало на самостоятельную деятельность, — редкое, как мы уже говорили, исключение из обыкновенного порядка дел, по которому гений, возвышая вас до себя, с тем вместе порабощает вас себе. У Лессинга была не такая натура: независимость была его задушевным желанием для себя и для других; подчинять себе других было ему так же противно, как и подчиняться другим. Черта, отличавшая характер человека, отразилась на духе и действии его произведений».
Это высказывание прямо соотносится с тем, что провозглашал Фихте — подлинная свобода проявляется также в желании освобождать всех вокруг. Как известно позднее Ленин обосновал политэкономическогое значение этого тезиса, заложив теорию мировой экономической системы нетоварного хозяйства. Но чтобы всё это стало возможным, была нужна в безрадостной немецкой действительности деятельность Лесиинга. Чернышевский писал:
«... Между своими сверстниками Лессинг был совершенно одинок.
Но вот воспиталось новое поколение, — в критике появляются Гердер, Мерк, Лихтенберг, Гёте; в поэзии — Гёте, Ленц, Клингер, Лейзевиц и, в одно время с ними, около начала 1770-х годов все бесчисленные критики и поэты периода «бурных стремлений». Все они воспитаны преимущественно Лессингом, многие — исключительно Лессингом. Каково-то будет отношение учителя к ним, каково-то будет отношение их к учителю?
Именно тут и обнаружилась самым ярким и редким образом его натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по своей разумности. Когда они выступили на сцену, он совершенно сошёл с этой сцены, вполне уступая им место. Он перестал работать для поэзии, для литературной критики. «Теперь и без меня довольно исправных работников на этих полях, — моё дело кончено, я стал бы только мешать им; они и без меня сделают всё, что нужно, — они умеют и хотят работать, пусть же трудятся, как умеют и как хотят». Роль воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно приготовлены» - заключает Чернышевский.
В другом месте Чернышевский ещё более резко подчёркивал подобную же мысль:
«...Лессинг говорил о самостоятельности, о строжайшем переисследовании всего, что внушается авторитетами, завещано преданием, о поверке собственным анализом всех правил, всего, что принято нами с детства как аксиома, — независимость мнений стояла для него выше всего, — и самым горячим стремлением периода, начавшегося с 1770 годами, было стремление к проверке, к переисследованию всех правил, всех авторитетов, непринимание ничего наслово, общим лозунгом всех была самостоятельность и оригинальность.
Сильно было его влияние на эту эпоху и всех лучших её деятелей: если иметь в виду только общие черты этих людей, то они все сходятся в том, что вышли из Лессинга. Но их крик о самобытности не был пустою претензиею: действительно, развившись благодаря Лессингу, ни один из них не утратил через это воспитание ни одной черты, принадлежавшей его личности».
О столь необходимом сейчас беспощадном стремлении исследовать действительное положение и перспективы его развития, о стремлении самостоятельно развивать вполне прояснённое направление мысли Чернышевский так писал в работе о Лессинге, указывая на значение теоретической работы по отношению к устроению жизни трудящегося большинства:
«...обыкновенно самые благотворные авторитеты имеют и свою вредную сторону — развивая мысль, они в то же время отчасти сковывают её. Когда в нации пробужден дух самостоятельной пытливости, эта вредная сторона не имеет важных следствий, — вы подчинились одному авторитету, другой — другому, сотни других не хотят признавать ничьей безусловной власти над своею мыслью, — так, например, в Германии, в одно время, в одной философской области теперь существует бесчисленное множество различных самостоятельных мнений, все допытываются истины, никто не успокоивается готовыми результатами, все самодеятельно стремятся вперёд и вперёд, и Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своих систем, не могли ни на одну минуту задержать дальнейшего развития мысли, — каждый из них повел её шагом дальше, и каждый раз, сделав этот шаг, она устремлялась вперёд, покидая прежнего учителя, даже низвергая его, если он хотел остановить её.
Так и должно быть. Не добытый результат важен: всё добытые человечеством результаты во всех областях жизни и мысли, как бы ни казались они блестящи по сравнению с прошедшим, все ещё ничтожны сравнительно с тем, что должно быть приобретено мыслью и трудом, для обеспечения материальной жизни, для прояснения знаний и понятий[4]. Важнее всех добытых результатов— стремление к приобретению новых, лучших; важнее всего пытливость мысли, деятельность сил. Немногие из гениальных людей так полно воплощали в себе эту пытливость, не успокоивающуюся ни в чём, эту деятельность, вечно стремящуюся к достижению новых результатов, полнейших всего прежнего, — немногие из гениальных людей, говорим мы, были так проникнуты не каким-нибудь определённым и потому ограниченным стремлением к какому-нибудь определенному, ограниченному результату, а жаждою итти все дальше и дальше, вперёд и вперёд, — чтобы добытые ими результаты каждому уму служили только опорою, только возбуждением к дальнейшему самостоятельному исследованию».
Продолжение будет...